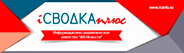Нужны меценаты!
Живописец и график, король русского натюрморта, как он себя назвал, Павел Бабенко работает в Краснодаре, отметил свои 75. Член Союза художников РФ.

«Конечно, натюрморт изобрели голландцы, но я им нос утер: они пишут качественно, но коммерчески, а я – по-русски, от души. В натюрморте я пишу Россию, русского человека и все, что ему дорого: пучок лука, шмат сала, бутылку водки, копченую курицу», – говорит Паша. – Доктор искусствоведения, главный научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, действительный член РАХ Александр Якимович, на выставке в московском Манеже еще в 2009 году когда осмотрел мои работы, повернулся ко мне и спросил: «А ваша жена знает, что вы гений?». Я, ошеломленный этими словами, брякнул: «Догадывается».
...Идут переговоры с выставочным комитетом Государственного Русского музея об экспозиции Бабенко в разделе «Современное искусство». Но нужны меценаты, нужны средства на аренду Мраморного зала, рекламу, выпуск альбома-каталога. Имена спонсоров будут опубликованы в альбоме. Кроме того, художник готов рассчитаться своими работами либо продать их по льготной цене. «Мы не просим и не занимаем, а предлагаем войти в мировую историю на взаимовыгодных условиях», – говорит он.
Почта Павла Павловича: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
О творчестве Павла Бабенко размышляет в серии статей доктор искусствоведения Александр Якимович.
На разрыв аорты. Искусство Павла Бабенко
Часть 1
Лучшие картины Павла Бабенко таковы, как будто художник дошел «до краю» и даже заглянул туда, куда мы в нашей обычной жизни не заглядываем. Он пишет интенсивно, а иногда прямо-таки отчаянно, как будто в самом деле делает это в последний раз, и торопится сказать нечто особенно важное для себя. Само это важнейшее для художника содержание не гомогенно. Оно расщеплено на полярные противоположности. Но не будем забегать вперед, а лучше двигаться по порядку – от общего к частному, от истоков к итогам.
Полюса душевных состояний и личностных проявлений выражены в этом искусстве, этой личности и этой биографии с большой отчетливостью. Художник и человек Павел Бабенко ощущает и переживает окружающую реальность и проживаемую им жизнь с какой-то особенной эмоциональностью. Он живет не так, как большинство людей; он живет неистово. Он неистово радуется жизни, он может впадать в неистовую меланхолию. Гнев его может быть неистовым. Сарказм доходит до пределов. Нежность к близким людям и дружелюбие тоже меры не знают. В общем, средняя температура этому творческому организму не свойственна. Он всегда либо пышет жаром, либо обжигает холодом. Иногда он как будто пытается обуздать свой темперамент и написать свои картины как бы уравновешенной кистью, или сочиняет добродушно-ироничные стихотворные опыты. При этом получается довольно своеобразная и странная общая панорама, и зритель-читатель вынужден постоянно спрашивать себя: про что это искусство? О чем хотел сказать художник? Спокойно созерцать и наблюдать в данном случае нам просто не дают. Нашим глазам и нашим душам нелегко иметь дело с таким испытанием, как картины Павла Бабенко – особенно же его ключевые, стержневые произведения.
Он не сразу сделался тем самым мастером, вещи которого сегодня так нас удивляют, волнуют, озадачивают. Можно даже сказать, что его живопись -- это продукт длительного созревания. Так лучшие коньяки и элитные сорта виски долгие годы накапливают свой потенциал, и потому для них старость – это «вторая молодость». Павел Бабенко обращал на себя внимание и тридцать, и сорок лет назад. Вообще он был всегда каким-то особенным и внушал удивление. Иногда опасливое. Например, оказавшись однажды в былые годы в приличном советском Доме творчества, то есть на пресловутой Академической даче, в этом пункте обмена опытом и взаимного примеривания художнических индивидуальностей, он вызывал к себе интерес своих товарищей-художников, смешанный с недоумением. Он не желал произносить ритуальных формул лояльности общему делу, то есть проявлять характерную для профессиональной среды социальную солидарность. Но это еще полбеды. Совсем странным казался его собратьям тот факт, что этот странный Бабенко вообще не желал писать с натуры. Его коллеги с утра пораньше разбредались по окрестным лужайкам и перелескам в поисках хорошего мотива, а ему такое занятие казалось и ненужным, и смешным. Он добивался и искал чего-то другого – такого, что не приходит извне, от натуры, от мотива, от объекта изображения. В каких-то иных сферах находились мотивы, темы и движущие силы творческой работы. И хотя его слова и поступки в те советские годы многим казались диковинными, до поры до времени альтернативная природа его искусства недостаточно давала себя знать. А он хотел именно чего-то другого, добивался чего-то не такого, чего хотели натурные реалисты, почвенники-примитивисты. Конформисты и нонконформисты поздней советской цивилизации ожесточенно противостояли друг другу именно по критерию натурности и натуроподобия, так что тогдашний Павел Бабенко явно не относился в те годы к конформистам, но и нонконформисты (авангардные и постмодерные) все-таки не могли признать его полностью своим.

В какую графу истории искусства попадает этот художник, это всегда было под вопросом. В свои советские младые годы он мог показаться каким-то не совсем последовательным оригиналом из провинциального болота, старающимся вытянуть себя за волосы из общей почвы полу-традиции, полу-эксперимента, полу-понятности и полу-элитарности. Увидев в свое время его «Автопортрет» 1990 года, можно было подумать, что этот художник, которому в это время было уже за сорок лет, еще не созрел для уверенного высказывания. Он упрощает формы, работает горячими тонами (красным по красному), но все-таки как бы старается не слишком «дерзить». Такая смелость (в рамках условности) и отвага (на ограниченном пространстве) как будто не позволяют предсказать те будущие процессы, которые развернутся в его картинах через некоторое время.
Он снова и снова старается сработать холст таким образом, чтобы быть понятым и даже полюбленным. В 1998 году появляется «Муза» – высказывание на одну из вечных тем живописного дела. Задача состояла в том, чтобы на фоне темного интерьера округлилось, мягко засветилось и согрело наш взыскующий глаз то чудо природы, которое мы скромно именуем женским телом, избегая более выразительных и «горячих» слов. Кому-нибудь захочется пофантазировать о том, что тот не очень отчетливый профиль, к которому чудесное видение обращается, обозначает самого автора картины. Но самое главное – это то, что речь идет о радости бытия, об упоительности видимого мира, о чуде телесности. То есть о вечной тематике и проблематике живописного искусства примерно с тех самых пор, как Мазаччо расписал свои флорентинские храмы. Да и прежде того живопись знала толк в изображении радости жизни, будьте уверены.
Как именно происходили процессы, борения, повороты внутренней творческой биографии уже, вообще говоря, не совсем молодого человека, об этом постороннему наблюдателю знать не дано, а собственные воспоминания творческих людей о своем прошлом не обязательно надежны. Не случайно мемуары считаются особо коварным источником информации. У зрителя есть, строго говоря, только один способ хотя бы приблизиться к пониманию художника: пристальное всматривание, осмысленное погружение в живописные произведения, сходное с тем «углубленным чтением», которое рекомендуют некоторые литературоведы для вживания в книги.
Работы Павла Бабенко до поры до времени соответствуют общим установкам и законам нормальной живописи, то есть смыслы там общечеловеческие, послания общепонятные, а «странности и дерзости» не заходят слишком далеко, и глазу опытного зрителя, насмотревшегося всякой живописи по музеям да галереям, особенных сюрпризов не преподносят. Но это было довольно неустойчивое равновесие.

Где-то около 2000 года эта конвенциональная констелляция (извините мой французский) летит ко всем чертям. Какой-нибудь романист стал бы доискиваться каких-нибудь драматических событий, которые, наверное, перевернули жизнь художника. Но вряд ли эти потрясения, виражи и прыжки, которые очевидным образом составляют творческую биографию мастера, объяснимы с помощью каких-нибудь отдельных фактов личной жизни или большой истории. В 1999 году пишется так называемый «Вегетарианский натюрморт» – словно отражение какого-то мистического видения или странного сновидения. Написанный ярко, сочно и контрастно натюрморт с винами, фруктами и разными вкусностями, написанными подчеркнуто счастливой кистью, снабжается самым неожиданным для такого милого зрелища дополнением – словно из нездешнего пламени и дыма возникает видение свешивающихся сверху явно неживых ног, отмеченных стигматами – кровоточащими ранами от распятия. Соединить вместе два таких измерения (измерение «радостей жизни» и мир помыслов о Жертве, об Искуплении) вряд ли отваживался до сих пор кто бы то ни было из живописцев. О степени органичности такого соединения в одном холсте вещей, казалось бы, несоединимых можно спорить долго-долго, но можно (и даже лучше) этого не делать. Важный вопрос состоит в другом. Откуда и по какой причине посетили художника такие странные стремления к соединению противоположностей?
Прежде мы уже замечали, что в этом творческом существе смешались разные натуры. Такие смешения возникают теперь и в отдельных работах, и в самом процессе эволюции мастера. Его бросает из крайности в крайность. Еще недавно, как мы видели, он сделал радикальную заявку на крайнюю степень творческой смелости, но вскоре из его рук выходит такая вещь, как «Окно» (2003). Перед нами добродушное и сочное упражнение на традиционную тему, то есть Дом и Семья, жизнь рода и традиции, погруженность в те корневые измерения, которые у краснодарского мастера имеются в наличии.
Пути творческой личности, быть может, не настолько неисповедимы, как пути Господни, но среди художников все-таки встречаются такие персонажи, которые то и дело побуждают нас сказать: вот уж такого не ожидали. Через год после «Окна», то есть в 2004 году, возникает поразительный «Русский натюрморт». По своим мотивам и «действующим лицам» он относится к сфере обыденности и простонародности. Так живут простые люди нашей Родины. На грубом ящике стоит знакомая снедь: банки консервов, пять картофелин (скорее всего, печеных), да еще вечная металлическая кружка, крупноформатная краюха хлеба и внушительные бутыли с мутной жидкостью (это скорее всего не какой-нибудь квас, а что-нибудь покрепче). Поразительно то, что вся эта доброкачественная материя жизни и атрибутика радости словно слеплена из какой-то раскаленной лавы, или из адских углей, слегка подернутых пеплом. В такой России, в такой обстановке жить, пожалуй, опасно. Сгоришь в этой топке. Там даже пол и стена на заднем плане тоже огневые, пламенные.
Что это такое было, почему такое было написано в 2004 году, как дошел до такой жизни мастер Павел, мы в точности не знаем, а гадать не станем. Важно то, что в жизни художника появилась какая-то «огневая стихия», обжигающая и испепеляющая сила, опасная энергия. Притом она же еще и согревающая, поддерживающая, обещающая надежду сила. Амбивалентная сила. Спасительная и губительная, страшная и отрадная.

Через пару лет, в 2007 году появляется большая «Тайная вечеря» – особо значимый опыт в области религиозной живописи нового типа. Передать эпизоды Священной истории посредством вещей, почти что в плане «библейского натюрморта» – идея сама по себе не совсем новая, ибо еще живописцы 17 века пытались воплотить образы или идеи Христа и апостолов в виде цветов, рыб и фруктов. Эти барочные причуды, впрочем, в свое время ходу не получили, ибо церковные инстанции следили за идеологическими вольностями художников и пресекали сомнительные опыты. В картине мастера Павла выстраивается сразу же считываемый контент. Вокруг стола выставлены стулья. На них только что сидели Апостолы во главе с Учителем. Иисус сидел во главе стола, с правого торца. Его монументальный стул возвышается здесь как самое надежное местопребывание. Остальная мебель – это какие-то мечущиеся, кривоватые, неуверенные места для сидения. Их эмоциональный жар, этот полыхающий красный тон – это цвет поиска, сомнения, но и цвет пылкого апостольского служения. Собственно говоря, перед нами просто большой стол и стулья вокруг него; символика Тайной вечери сосредоточена в опрокинутой чаше, из которой выливается вино Причастия. Оно же кровь Христова.
Снова и снова мы увидим в этой творческой биографии такие апогейные точки, когда мастер Павел пытается соединить в одном холсте те противоположные полюса, которые переполняют его личность, буквально разрывают душу. В «Тайной вечере» эта попытка синтеза происходит почти демонстративным образом, даже как-то наивно. Прямолинейность замысла очевидна в прямом сопоставлении двух главных стульев – царственного Престола Света справа, и словно окрашенного кровью и пламенем противоположного стула, на котором, видимо, сидел Иуда. Теперь тот и другой отсюда ушли, а память о них осталась запечатленной в вещах.
Первые годы нового двадцать первого столетия оказались для Павла Бабенко судьбоносными. Он поставил себе и стал решать задачи очень крупного масштаба – на самом деле задачи мировоззренческие, миростроительные. Устройство мироздания и сущность жизни – на меньшее художник как будто теперь не согласится. Но притом Бабенко органически несовместим с риторикой, с пышным торжественным умозрением. Он, скажем прямо, не Чаадаев и не Солженицын, чтобы эдак взять да и представить изумленному человечеству какую-нибудь Формулу России или свое решение загадки жизни вообще. В его творческом измерении творятся дела неожиданные, а иной раз, как черт из табакерки, выскакивают дразнящие сюрпризы. С этим свойством этой натуры приходится постоянно иметь дело. Вот он «глаголет возвышенное» – и тут же, без перехода, предлагает клоунаду, шутовскую игру, карнавальную дерзость.

"Матисс в гостях у Паши на Кубани." (Художественный музей им. Ф.А. Коваленко.)
Интеллигентным людям уже не в новость чтить музыкальные и гармоничные формы и цветовые аккорды Матисса. Никому бы, кроме одного Бабенко, не пришло в голову перевести Матисса на язык детской игрушки, и превратить этот мотив Эдема в цирковой номер, в танец шутов, одетых в костюмы роботов. Такова картина мастера «Последний танец», 2008 года. Вообще тема «припрячь Матисса» время от времени мелькает в творчестве кубанского мастера. Он и до того писал своего рода гротескные оммажи на темы великого француза. Зачем он делал такое? Вникал в уроки фовизма? Перекладывал на язык современного техно-варварства величавый строй новой классики? Но если так, то ради чего?
Мастер Павел в это время пытается развить и продолжить те открытия (даже можно сказать, прозрения), которые посетили его в начале нового столетия. Он экспериментирует с новыми концепциями, пробует разные пути, как бы отходит на некоторое расстояние от своих радикальных и взрывчатых решений недавних лет и хочет чего-то другого. Он хочет добиться гротескности и почти комического эффекта в «Последнем танце». Или даже своего рода иронического комментария к своим собственным живописным достижениям вчерашнего дня. Он пишет в 2008 году «Натюрморт с золотым лучком». Знакомая формула: жизнь простого человека. Какая-то старая дверь положена на грубые стулья, и перед нами опять выстраивается простая русская еда, пара горшков да уже знакомые пузатые бутылки, и этот кусок немудреного быта вроде бы погружается опять в кроваво-огненные сполохи раскаленных эмоций, но – тут стоп. Доводить эту феерию огня и крови до ощущения опасности мастер не хочет, он смягчает остроту цвета, а как бы поперек композиции укладывает пучок свежесрезанного, сочного, золотистого лука. Это как насмешливая улыбка в адрес зрителя, который уже приготовился к высокой трагедии, к мистерии – а тут ему предлагают пожевать острого овоща (например, под хороший кубанский самогон) и вспомнить о простых радостях жизни.
Натюрморт в руках Павла Павловича оказался на редкость разнообразным способом подачи смыслов. Примерно в то же самое время, что и предыдущий холст, то есть в 2008 году, возник «ледяной» вариант, именуемый просто «Натюрморт». Мастер словно предлагает нам вообразить, что в геенну огненную явилась Снежная королева, и нам теперь можно полюбоваться на скромный, но королевский завтрак. Раскаленные угли фона начинают затухать в соседстве с ледяной глыбой снежно-белой скатерти, на которой возвышаются бокалы и бутыль, словно покрытые изморосью.
Опыты с «социальной лестницей» продолжились в следующем, 2009 году, когда свету был явлен следующий натюрморт на тему «завтрак аристократа». Тут не грубые горшки и кружки стоят на грубых досках, а благородный графинчик позволяет различить содержащийся в нем рубиновый напиток, и пьется эта благодать из приличных бокалов, и не картошка тут радует взор, а фрукты, положенные в вазочку. Притом строй и лад этой сцены вовсе не намекает на благополучие и радость жить хорошей правильной жизнью. Куда там. Мир застыл в холодных переливах голубых и синих тонов. Здесь неуютно. Человеку вряд ли можно выжить в тех уголках геенны огненной, которые возникали в предыдущих натюрмортах мастера. Но существовать в подмороженном благополучии тоже не радость.
Что-то особенно для себя важное хочет нам сообщить этот художник, и это нечто крайне сложное и противоречивое нечто. И он перебирает разные варианты своего послания, не видя возможности остановиться на одной ноте, одном звучании.

Прозвище, которым сам Павел Павлович с некоторых пор любит себя обозначать, то есть «король русского натюрморта», довольно близко соответствует его творческому облику, но требует уточнений и дополнений. Он, если можно так сказать, – «король Лир русского натюрморта». Он смятенной душою встречает большие и малые факты бытия. Он в потрясении смотрит на библейские сюжеты, но ведь и луковку, и стул возле стола, и лампу, и окошко дома умудряется увидеть как будто на волне экстаза. Что такое с ним происходит, отчего он такой? Впрочем, нет, вопрос надо ставить точнее. О природе и душе отдельного талантливого человека только Господь ведает, и тут интерпретаторы-специалисты, историки и критики искусства, эти забавные люди в очочках с пузцами -- они бесполезны. Но многим из нас не безразличен вопрос о том, что же хочет нам сказать художник, у которого воздух бывает то раскаленным докрасна, то застылым до звонкого льда, вещи кричат и окликают нас самим цветом, интенсивным до последней степени.
Ответ будет столь же ожиданным, сколь и шокирующим для многих. Павел Бабенко – очень русский художник во всех значениях этого слова. Александр Солженицын утверждал, что Россия – не страна, а скорее особый материк больших размеров, и в чреве этого материка не может появиться что-либо соразмерное, уравновешенное, рационально выстроенное. Всякое политическое, литературное, общественное деяние здесь оказывается как бы формой неистовства, иррациональным и неосмысленным потоком событий, чувств, контрастов. Россия бесформенна, неохватна, загадочно непредсказуема, в сущности – она непостижима. Если писатель и мыслитель прав, то на континенте Россия как раз и должны водиться такие представители вида «человек творческий», как Павел Бабенко.
Александр Якимович