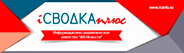Жили-были – не тужили…
Валерий Володченко. Рассказ
Когда за окном сорокаградусный мороз, и в школу, в первый «Г» класс, можно не ходить, а на улицу «погулять с друзьями» не пускают по причине очередной простуженности – самое время послушать рассказ бабушки о том, как забирали отца на войну, как уходил он с другими пацанами бить супостатов.
Вообще-то, пятнадцать лет назад он никаким моим отцом еще не был, а просто учился, после «семилетки», на слесаря в школе фабрично-заводского обучения, но все равно ведь интересно…
– Ну, ба-а-а… Ну, расскажи…, – привычно канючу я, раскачиваясь на табуретке и упираясь грязными пятками в горячий бок печки.
Бабушка откладывает в сторону самодельное веретено, с помощью которого она бесконечно сучила-пряла вонючую овечью шерсть для моих будущих носков, «сгоравших на кривых «ходулях», как церковные свечки», вытирает изнанкой фартука мой, вечно сопливый из-за сквозняков, нос, и раздумчиво начинает:
– И пошли злые супостаты-вороги на Россию…
Она сдвигает очки на лоб, побольше вбирает в грудь воздуха, чтобы продолжить свою былину, но у меня уже возникли не терпящие отлагательства вопросы, на которые бабушка обязана была незамедлительно ответить.
– А хрена ли нам в той России? – любопытствую я, перебивая эпическое начало, и бабушка, выдохнув, поперхнувшись от неожиданности, ненужный теперь воздух, тут же сердито замолкает.
И никогда я не успевал увернуться от ее стремительной расправы, всегда получая веретеном по лбу. Стукала она хоть решительно и метко, но совсем не больно: не острым концом тыкала, а плашмя била, с уже намотанной на веретено мягкой пушистой нитью.
– Да чего ж ты, старая квочка, опять дерешься?! – сценично умирая от бабушкиного удара, но хитро понимая причины ее гнева, громко кричу я на бабушку, и даже топаю босой пяткой в холодный земляной пол.
– И где только ты таким помойным словам учишься?! – спокойно, но тоже неискренне, прекрасно зная – где, и вопросом на вопрос отвечает бабушка.
– Каким - помойным?! – восклицаю я с еще большим негодованием, уперев кулаки в бока и протестующе растопырив локти. – Каким таким помойным? Хрен на огороде растет! А квочки цыпляток высиживают…
Бабушка, ошеломленная моим глубоким жизненным опытом, смеется, и только руками, как крыльями, всплескивает: сгинь!
А ведь в нашей халупе-мазанке посреди завьюженной казахской степи я действительно не понимаю: а хрена ли нам та далекая Россия? Печь, крепко сложенная умелым дедом из уворованных на Мелькомбинате кирпичей, жарко полыхает круглосуточно: в шахтерской Караганде угля не жалели, да и останавливать топку было нельзя – щелястый наш «дом» с земляным полом и с одинарными рамами вмиг остужался.
«Простужался», говорила бабушка, замешивая тесто для пирожков с картошкой или ощипывая, отлынивающую от несения яиц, курицу для борща.
«Хрена ли?» – если у нас тут тепло, светло и мухи не кусают...
И дед о России всегда вспоминал с затаенной обидой. Из его рассказов вырисовывалась такая история. Покупал он как-то в сельмаге, в той самой России, порошок для травли блох, тараканов и прочей нехорошей живности. И громко похвалил советскую химическую продукцию: «Ну, держитесь теперь, усатые твари!»
И уже на следующий день следователь въедливо у деда выпытывал: а кого из усатых тварей имел он в виду? «Может, Буденного? – настойчиво интересовался следователь. – Или?..» – переходил он на шепот, уважительно поворачиваясь к портрету, который монументально висел на стене его кабинета.
«Скажи спасибо, что партия взяла твердый курс на индустриализацию, и стране в массовом порядке требуются рабочие руки, даже такие, как твои, – вражеские!» – очень по-доброму и с большим участием подвел следователь итог долгим допросам.
И уже через месяц «враг народа» и все члены его семьи – бабушка и ребятишки, мал мала меньше, - в битком набитом вагоне для скота и в окружении таких же «выявленных элементов» ехали на поселение в далекий неизвестный Казахстан. Там как раз начиналось строительство «всесоюзной угольной кочегарки» – Караганды, и мастеровитых рук требовалось много.
Рассказы деда «про войну» я ценил гораздо выше бабушкиных былин. У деда реализма и конкретики было больше, но все равно в них чувствовалась какая-то недоговоренность. Дед постоянно скатывался на бытовые подробности, которые, как мне казалось, отношения к героическому событию не имели, и приходилось постоянно возвращать деда в русло сюжета.
– Однажды приехал Пятаков с милиционерами, подогнали полуторки к самому крыльцу школы ФЗО, вывели ребятишек, погрузили в грузовики и увезли комсомольцев-добровольцев – вот и все событие! – в этом месте дед явственно собирался выматериться, но бабушка была начеку, и тяжелый половник в ее руке принуждал деда к благоразумию.
– Какой Пятаков? – пытался я понять все причудливые обстоятельства давних времен. – Это который бражку пить к тебе приходит?
Дед, косясь на бабушку, пропустил мой конкретный уточняющий вопрос мимо ушей, продолжая гнуть генеральную линию:
– В кузова полуторок еще и конвоиров с винтовками посадили, чтобы пацаны по дороге не повыпрыгивали и не разбежались. Фашист, одним словом, су…
Бабушка угрожающе постучала половником по крышке кастрюли.
– …су…дарь, сударь, мой юный, как говаривали в ранешние времена, – вывернулся виртуозно дед, окончивший четыре класса церковно-приходской школы и знавший много старинных слов. В нашем поселке Мелькомбината дед вполне заслуженно слыл большим грамотеем.
Бабушка осуждающе смотрела на деда, но формально придраться было не к чему.
Дед еще уточнил, что все увезенное в грузовиках малолетнее воинство собрали на призывном пункте и торжественно объявили присмиревшим пацанам, что теперь они отважные защитники Отечества. Писари в это время спешно добавляли в призывные документы добровольцев кому по году, а кому и по два, чтобы совпадало с объявленным мобилизационным возрастом. И всех определили в кавалерию, как раз формировалась в Казахстане соответствующая дивизия.
– И сабли выдали?! – в восторге интересовался я, но дед таких подробностей не знал, но утверждал, что больше всего наездникам обрадовались лошади – было в каждом новоиспеченном кавалеристе не более трех пудов живого веса.
– Нашему до трех пудов пяти фунтов не хватало, – сухо поправила деда бабушка, во всем любившая точность…
Меня все эти пуды и фунты мало интересовали, я даже про «живой» вес – значит, есть и «мертвый»? – не стал особо любопытствовать, меня волновал Пятаков.
– Фашист? – холодел я нутром, не умея связать умом и осмыслить такую противоречивую информацию: «фашист-эсэсовец» в глубоком нашем тылу командует отправкой будущих советских героев на фронт. Наверняка врет зачем-то дед.
– Фашист он конченый, – честно заключил дед и, воспользовавшись отсутствием бабушки, на минуту вышедшей из комнаты, лаконично и с удовольствием добавил: падла!
...По воскресеньям мы с отцом отправлялись гулять. В разных интересных местах бывали, и как-то так всегда случалось, что в конце прогулки обязательно оказывались у «веселого шалмана» – обычной мазанки с земляным, как у нас, полом. Эту мазанку-пивнушку, в которой пенный напиток разливал толстый улыбчивый армянин, завсегдатаи именовали «У Борова». Дверь здесь всегда была нараспашку.
«Зайдем?» – подмигивал мне отец, и я величаво утвердительно кивал: носители даже самых малых секретов всегда возвышаются над окружающими. А я ведь уже хорошо понимал, что об этих наших «заходах» ни бабушке, ни тем более матери, знать вовсе не обязательно. Я только в самый первый раз, когда мы вернулись домой, по своей инициативной наивности «запутал» секретный маршрут нашей прогулки, хитро объявив: «А к Борову мы не заходили!», чем привел отца в некоторое смущение.
У Борова всегда было шумно и весело. Ну, откуда я мог знать, что армянина на самом деле зовут Самвел?
С тремя рублями в потной ладошке, которые мне щедро выделил отец «на конфеты», я гордо подошел к прилавку, где продавец сосредоточенно доливал кружки «после отстоя пены», важно и громко, красуясь по-купечески, потребовал: «Боров, мне лимонаду! Целую бутылку!»
В пивной разом повисла тишина. Толстый, но уже не веселый армянин повернулся ко мне, удивленный и обескураженный:
– Мальчик, зачем так нехорошо выражаешься?
Теперь уже я удивился: что такого плохого сказал? Продавец вышел из-за стойки и повернул меня к картине, висевшей на стене, едва заметной в клубах густого папиросного дыма:
– Запомни умный хороший мальчик, что тебе сейчас дядя Самвел скажет. Видишь, сосны стоят, медведи гуляют, солнышко светит… Картина называется «У бору», «Утро у бору… сосновом». Запомнил? Ее наш знаменитый армянин нарисовал: Айвазян! «У бору», а не «У Борова», – настойчиво втолковывал мне обиженный продавец. – Это только некоторые совсем глупые дяди, ничего не понимающие в искусстве, могут путать…
Но я-то в искусстве понимал, и уже видел в «Огоньке» эту картину, и знал, что ее нарисовал никакой не армянский Айвазян, а русский художник Шишкин. О чем и сообщил дяде Самвелу. Тот, умиленный моими искусствоведческими познаниями, тут же открыл мне бутылку лимонада, а денег не взял. Так мы с ним подружились.
Дядя Самвел воевал на 1-ом Белорусском фронте. «В 150-й стрелковой Идрицкой дивизии Василия Митрофановича Шатилова, – всегда гордо подчеркивал Самвел. – Знамя Победы знаешь? Я ведь, скажу по секрету, тоже его устанавливал! Ко мне сюда мои друзья Миша Егоров и Мелитон Кантария все собираются приехать, пива попить…».
У всех «белорусов» в пивнушке были особые преференции – пиво им Самвел отпускал без очереди, а особо уважаемым и лично ему знакомым даже частенько набулькивал в кружки «за счет заведения» по «сто наркомовских грамм».
Порядки в пивной были строгие. И соблюдались незыблемо. Если кто из новеньких, перепив, начинал бить себя «по орденам», материться и требовать особого уважения к своему героическому прошлому, то Самвел немедленно подходил к проблемному столику и делал предварительное замечание: «Не надо, уважаемый, так неуважаемо относиться к другим уважаемым…» Если такое увещевание не помогало, то несколько «белорусов» молча отставляли кружки в сторону и выбрасывали наглеца из пивнушки. Такие случаи были редки, но – были!
Даже безногие инвалиды, которым в условиях полевых госпиталей поотрезали-поотпиливали все по самые «помидоры», безобразничать остерегались. Инвалиды в замурзанных пиджаках с подвернутыми полами лихо раскатывали по пивнушке на самодельных тележках, прозванных «танкетками на шарикоподшипниках», и уверенно собирали пивную милостыню, требовательно протягивая свои кружки любой компании у любого столика. Им щедро наливали пива, и водки никогда не жалели. Но стоило кому-либо из этих «танкистов-мотоциклистов» сильно перебрать и неприлично «устать», потеряв человеческий облик, то с ним поступали просто: брали за шиворот и вместе с «танкеткой» выносили на улицу, где, пинком придав тележке ускорение, отправляли буяна отдыхать в ближайшие кусты. При этом ордена и медали, приколотые к пиджаку бедолаги, жалобно позвякивали…
Однажды к Самвелу забрели «особые» люди. Изможденные, явно больные, беззубые, с потухшими взглядами, с потертыми заплечными котомками.
Самвел вдруг участливо усадил их за лучший стол, предназначенный для самых почетных гостей, сам принес пиво, какую-то нехитрую снедь, поставил на стол бутылку водки. «Кушайте, не стесняйтесь, – заметив робость безденежья, сказал Самвел. – Без денег!»
Когда «особые» утолили первый голод, Самвел подсел к ним, стал расспрашивал, на каких фронтах воевали, откуда родом? А потом тихо поинтересовался: «Где отбывали?»
– Долинка, Джумабек , Спасск, Шахан, Сарепта , – стали перечислять люди бесконечный список жутких проклятых мест за колючей проволокой.
– Сколько? – помрачнел Самвел.
У всех было по «десятке» – от «звонка до звонка!»
Самвел ушел, потом хмуро поставил пустую трехлитровую банку на стойку, и все присутствующие в пивной стали подходить к ней по очереди, и банка быстро наполнилась рублевками, трешками, пятерками. Даже закоренелые безденежные пропойцы ссыпали смущенно последние свои медяки.
Банку Самвел вручил «особым»: «Примите, братья, на дорогу домой…»
…Мне было лет, наверно, пять, когда я впервые увидел ее. Восхитительную и прекрасную. Отцовскую фронтовую медаль «За Отвагу». Ее хранила бабушка за древней почерневшей иконой с изображением сурового дядьки, которого бабушка по-свойски называла НикОлой, и по вечерам что-то долго и доверительно ему нашептывала. Никола меня не интересовал, а вот медаль…
И однажды я решился. Все ребята на улице ахнули, когда я появился перед ними с приколотой к изодранной майке медалью. Любимой нашей игрой были «Казаки-разбойники», но старшие ребята не очень охотно принимали в нее малолеток. В тот раз меня, с медалью, наперебой стали звать к себе и атаман «казаков-красноармейцев» Аманжол Сыздыков, и главарь «разбойников-фрицев» Андрюшка Фольц. Конечно же, я пошел в «казаки»…
Было в нашей игре одно обстоятельство, одно правило, которое мы сами установили и соблюдали. В команду «казаков» принимали играть любых ребятишек – и чеченцев, и татар, и казахов, и корейцев, и греков, и евреев, а вот немцам туда ход был заказан. Только «разбойниками» мы брали в игру наших немецких сверстников.
В поселке проживало в таких же, как у всех, саманных развалюхах много немецких семей, и взрослые нам, конечно, объясняли, что это совсем не те немцы, что на нас вероломно напали, что живут они в России уже двести лет, и приглашены были самой императрицей Екатериной Великой.
«Не те, может, и не те, но в игре нам царица, даже Великая, не указ, а фрицы, они и в Африке – фрицы!» – обосновывали мы свое жестокое решение…
Азарт этой игры непередаваем! И что я вытворял, стараясь оправдать доверие, тоже описанию не поддается – взбирался на деревья, прыгал в крапиву, ползал на животе, оставляя в колючих кустах клочья собственных штанов. И когда мы, «казаки», победили, переловив всех «разбойников», была уже ночь. А медали на майке не было! Я отчаянно ревел, а ребята – и «красноармейцы-казаки», и «разбойники-фрицы» – меня участливо успокаивали. Пообещали снова собраться в шесть утра и начать поиски.
И собрались! И нашли!
Может, именно с того случая я стал непоколебимо верить в могучую и добрую силу коллектива и никогда не обращать внимания на национальную принадлежность тех или иных людей…
У отца было три самых близких друга.
«Как у д’Артаньяна, – утверждал всезнающий дед. – Мушкетеры! Один за всех и все за одного!»
Я про мушкетеров еще ничего не ведал, но чужие дядьки, когда пришли к нам в первый раз, мне не понравились. Какие-то все бракованные, инвалидная, одним словом, команда…
Это уже потом я стал различать их по увечьям и знать по именам. У дяди Сережи Бузулуцкого левый стеклянный глаз всегда смотрел куда-то вбок, а вместо виска была глубокая вмятина. У дяди Вити Севостьянова на одной руке не хватало мизинца, а другая, вся в шрамах, плохо сгибалась. У Константина Степановича Басова из-под брючины виднелся деревянный протез, и ходил он с палочкой.
Константина Степановича все называли именно так: Константин Степенович. Тот был большой шишкой в горкоме, а там с этим строго – обращение исключительно по имени-отчеству!
Один мой отец был, словно заговоренный, без фронтовых отметин. Не тронутый ни пулей ни саблей, он выглядел очень браво среди «инвалидной команды»: руки-ноги целы, и нос в табаке! И не догадывались тогда искалеченные войной «мушкетеры», что уже «двадцать лет спустя» будут первым его хоронить: три жесточайшие контузии без последствий не остаются. А потом они и сами тихо уйдут в мир иной вслед за своим д’Артаньяном…
Однажды весной, оформив кратковременные отпуска «без содержания», «мушкетеры» мощным «сталинским ударом» за неделю перестроили наше простуженное саманное жилище. Оштукатурили-обновили снаружи стены, покрыли крышу шифером и, главное, провели полную реконструкцию внутри – настелили деревянные полы, проолифив их и покрасив в два слоя масляной краской, вставили в оконные проемы вторые рамы…
«Вот теперь жить действительно станет лучше и веселее!» – торжественно оценил работу дед, каждодневно руководивший строительством и всю неделю поддерживавший энтузиазм масс своей нескончаемой бражкой.
В дни праздничных застолий, особенно 9-го мая, в День Победы, хорошо приняв с друзьями на грудь, отец вынимал из чехла аккордеон, и они обязательно пели про Сережку с Малой Бронной и Витьку с Моховой. Особенно мне нравилось, что Сережку с Витькой «помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой». Для Константина Степановича исполнялась персональная песня. Я плохо представлял шаланды, полные кафеля, которые приводил дядя Костя почему-то в Одессу, но всегда радовался: какие ж у отца замечательные друзья! Про них даже песни сложены!
Потом захмелевшие певцы, обнявшись, плакали, не стыдясь собственных слез, и их уводили по домам недовольные жены. А отец еще долго, но, уже молча, играл на своем трофейном аккордеоне.
Тщательно упаковав инструмент в специальный чехол, отец выпивал еще одну стопку водки под «курпе», что в переводе с казахского значит – «под одеяло», «напоследок», – и тоже шел спать…
…Атомные бомбы на Семипалатинском испытательном полигоне уже демонстративно, напоказ бывшим союзникам, взрывали. Целинные земли уверенно, но бездумно, губя пастбища для овец, распахивали-поднимали. А вот спутники в космосе пока не летали, и дед еще не получил письмо из Президиума Верховного Совета СССР «от маршала Ворошилова», где сообщалось о полной реабилитации и снятых с деда обвинениях, и предлагалось вернуться, при желании, на прежнее место жительства, и даже занять реквизированный ранее дом…
«А пошли бы они все в жо…», – начнет было комментировать сообщение дед, когда письмо принесет почтальон, но остановится… Я потом нашел в словаре В.И. Даля подходящее слово, – а их очень мало, – начинающееся на «жо»: жолнер – пехотинец, солдат. Начитанный все же у меня был дед…
***
Уже много лет я храню отцовскую медаль «За Отвагу». По ее номеру нашел в архиве пожелтевший документ военных времен. Штабной писарь скупо сообщает, когда и за что представлен к награде мой отец.
И вот за что: «В составе кавалерийского мобильного отряда неоднократно ходил в разведку в тылы врага на расстояние до 40 километров. 21.07.44г. в жестоком бою с выходящими из окружения гитлеровцами показал себя инициативным и бесстрашным бойцом. В рукопашном бою лично зарубил немецкого унтер-офицера и вместе с другими бойцами захватил в плен 15 немецких солдат. Благодаря бесстрашным и решительным действиям кавалерийских разведчиков, скрытно планировавшийся вражеский удар был предотвращен».
21.07.44г., в день рукопашного боя, отцу исполнилось девятнадцать лет. К этому времени он уже два с лишним года провел на передовой.
До Победы надо было прожить – и выжить! – еще 291 день.