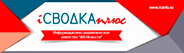Валерий ВОЛОДЧЕНКО, журналист, член Международного сообщества писательских союзов. Работал в "Комсомольской правде", "Российской газете", "Парламентской газете"
Рассказ «Хвостик»
Я рожден собакою. Не в том смысле, что мною ощенилась сука, хотя и в этом тоже, а в том, что имею хвост и зубы. Хвостом я умею приветливо вилять, а зубами грозно скалиться.
Все говорят, что я чертовски красив. В целом масти черной, а на лбу, точно посередине, белый «пробор» – словно сабельный удар, рассекший голову. А еще белая грудка, белые «чулочки», и кончик хвостика – белый. И совсем уж интимная деталь: под хвостом, будто солнечный зайчик прилип, тоже белое пятнышко.
«Хвостик! – это меня так зовут: Хвостик. –Покажи зубы», – просят люди, и я показываю: р-р-ры!
Они смеются, и называют меня оскалом империализма. А еще люди называют меня собакой-табака. Это потому, что я люблю отдыхать на животе, вольготно распластав-вывернув задние лапы.
Конечно, некоторые части тела с возрастом (а мне уже год и три месяца) стали мешать исполнять этот незамысловатый трюк, почему-то очень веселящий окружающих, но не до такой же степени мешать, чтобы беспардонно орать на весь рынок: «Мама! Мама! Смотри, как лежит! Он же пипиську раздавит…»
Я тогда тяпнул за голую ногу в рваной сандалии этого бестолкового человеческого детеныша, не умеющего прилично себя вести в порядочном обществе. И не до крови ведь тяпнул, а только в воспитательных целях, но пацан и его мамаша так завопили, что переполошили весь рынок.
И пришлось мне неделю скрываться у Хасана…
Хасан работает в мясных рядах, он мой друг. В мясные ряды не каждому псу зайти позволено, а кошкам туда дорога вообще заказана. Меня же Хасан всегда встречает приветливо и радушно.
«Опять жрать захотел?! – спрашивает-утверждает Хасан, втыкая свой топор в колоду, на которой постоянно рубит мясо, и бросает мне сахарную косточку: – Жри, пожалуйста…»
Кто-то может сказать, что нельзя так бесцеремонно обращаться с пришедшим гостем. Что по законам этикета надо бы сначала о курсе доллара поговорить, о погоде, здоровье родственников обсудить и свое собственное. Еще друзья обязаны покурить, поплевать задумчиво под ноги, может, даже в нарды сыграть и опрокинуть по стаканчику.
Меня прямо-таки тошнит от подобных безответственных заявлений.
Во-первых, я не курю. Во-вторых, моя сука-мамаша, единственная известная мне родственница, давно куда-то сгинула, не оставив списка хотя бы четвероюродных братьев и сестер, о самочувствии которых я мог бы порассуждать с приятелями.
И, наконец, в-третьих, тошнит меня, если честно, не от глупых людских рассуждений, а потому, что жрать постоянно хочется. И мой друг Хасан об этом догадывается и демагогией не занимается. Он привык к конкретным действиям в реальной жизни, а его брошенная кость с солидным ошмётком мяса на ней гораздо весомее абстрактной болтовни о любви к животным и необходимости их защиты.
Возможно, вас удивляют все эти мудреные слова, которые я так свободно и к месту употребляю, их ведь и не все-то люди знают-понимают. Конечно, я и обиходным матерным языком владею в совершенстве, но для этого нужна соответствующая обстановка – чтобы дым коромыслом, чтобы музыка убойно-свайная: бум! бум! бум! – и обязательно девицы, с удовольствием визжащие, когда упившиеся кавалеры начинают их хватать за разные пухлые места.
Где я научился всему этому? У Сереги!
Серега-алкаш – мой первый и любимый хозяин, ему я достался слепым еще щенком. Серега тогда пришёл к своей соседке, бабке Нюре канючить стольник «до после обеда», а бабка была не в духе, так как занималась ответственным процессом: топила в помойном ведре нас, пятерых кутят. Нашу мамку угораздило опростаться в бабкиной сараюшке, и теперь, на правах хозяйки, бабка Нюра кардинально решала нашу щенячью судьбу.
В «стольнике» бабка отказала Сереге категорически, и он, чтобы ее позлить, запустил руку по локоть в помойное ведро и ухватил одного из утопленников: им оказался я. Поэтому я и говорю – Серега меня достал, а я, значит, ему достался.
Вообще-то Серега почти сразу сообразил, что поторопился совершить благое дело, и оплошность свою признал очень скоро, когда к нему нагрянула веселая компания. «Нагрянула» – это фигурально сказано. На самом деле Два Витька и Андрей Иванович обитали у Сереги почти что круглосуточно, меняя временами лишь женский контингент сопровождения: Зинок на Снежан, а Наташек – на Анжелин и Анжелик. Иногда это происходило и в обратном порядке…
Серега, притащив меня домой, мокрого и полудохлого, сунул в тряпье на кровати и напрочь забыл о содеянном. И пришедшая Анжелка, которая по паспорту значилась Катькой, едва меня не раздавила своим безразмерным задом. Эту пикантную и значительную часть ее тела Два Витька уважительно называли выдающейся кормой. К счастью, девица промахнулась, и «корма» только слегка меня потревожила. Но я запищал так возмущенно и пронзительно, что собутыльники от неожиданности даже стаканы – полные! – в сторону отставили, чего никогда до этого не случалось и не могло случиться в принципе. Как позже прокомментировал Андрей Иванович: беспрецедентный возник случай, аномалия…
Стали думать, чем и как меня кормить-выхаживать. Молока в доме Сереги сроду не водилось, и купить, чтобы насытить сосунка, было не на что. Тогда Анжелка, торопливо проглотив стакан портвейна, сбегала к какой-то своей «декретной» подруге, и скоро вернулась с бутылочкой белесой жидкости.
«Подоила курву», – весело объявила Анжелка, демонстрируя емкость. И о необходимой соске на бутылочку она, молодец, не забыла, выпросила в аптеке.
Так что вскормлен я, можно сказать, титькой человеческой. И вот ведь какая в связи с этим замечена несправедливость: когда человеческого детеныша иногда взращивают собаки или волки, во всех газетах об этом обязательно пишут, удивляются, восторгаются: Маугли! А когда случается наоборот, как вот со мной, то никакой информационной шумихи не возникает.
…Уже через пару недель я лихо жрал людской деликатес – колбасу. Девицы, жеманясь, тщательно разжевывали ее и пальцем засовывали мне месиво в рот, утверждая, что питаться в этом возрасте я должен через каждые два часа. Они же, после кормления, больно мяли мне живот, считая процедуру исключительно полезной и профилактической, – «чтобы заворота кишок не случилось, и какашки хорошо выскакивали».
«Только не свиную! Собакам свиную нельзя…», – обязательно проявляла осведомленность и обо мне заботу одна из пришедших Наташек, на что Два Витька весело ржали, ударяя ребром ладони по сгибу руки: «Не боись! У нас только ливерная!»
Андрей Иванович на колбасную тему тоже шутил, но интеллигентно: «Почему нельзя свиную? Он же не иудей, и не магометанин какой…»
Анжелка постоянно нахваливала мои белые отметины, а солнечное пятнышко под хвостом объявила счастливым. Почему она так решила, одной только ей известно, но все равно было приятно узнать о своем исключительно безоблачном будущем существовании.
Надо сказать, девицы, пока были трезвые, всегда ласково надо мной сюсюкали, всякие бантики привязывали, в тряпочки пеленали, красавчиком называли, дойдя же до кондиции, становились стервозными и с явным неодобрением обсуждали, какой из меня скоро кобель получится. А чего, спрашивается, обсуждать: конечно – кобель! Может, не очень чистокровный, но, сами же решили, что замечательный.
Так я быстро рос и набирался впечатлений в окружении бесшабашных людей, под их бестолковым приглядом и в карнавальном каком-то сумасшествии. Прав был писатель Тургенев, который прямо заявлял, что у русского человека мозги набекрень. И я Ивану Сергеевичу верю, с ним солидарен: уж очень он жизненно немого Герасима и его несчастную собачку Му-му изобразил, реалистично…
Когда мой хозяин был пьян, а пьян Серега был всегда, он тоже становился «немым», и хозяйством управлял Андрей Иванович. Дом у Сереги собственный. Плюс пять соток огорода, на котором ничего, кроме сорняков, не росло, потому что ничего и не сажали. Дом стоял пустой, с выбитыми стеклами, а вся колготня происходила в летней кухне. И кухня была шикарная – с двумя унитазами! Если бы их еще подключить к системе канализации, то, как выражался (не в смысле матерно, а с глубинным философским содержанием) Андрей Иванович, уровень комфорта достиг бы невероятных высот. Но канализации не было и не предвиделось, и «сантехника» использовалась вместо табуреток. Иногда Два Витька пробовали в эти унитазы мочиться, но присутствующие барышни поднимали возмущенный крик, и увлекательный процесс приходилось прерывать и останавливать.
Мне Витьки нравились своей неуемной энергией и веселым присловьем: «Нас двое, и мы в тельняшках…» Отсюда и прозвище у них одно на двоих – Два Витька, хотя, если честно, никаких тельняшек они не носили…
К Андрею Ивановичу дамы относились с пиететом. У него замашки усталого барина, и по утрам он ходил в шикарном шелковом халате. Я частенько уволакивал этот халат в свой закуток и с удовольствием на нем отдыхал. Понятно, что от моих зубов и когтей на халате оставались дырки, но Андрей Иванович на такие мелочи внимания не обращал: аристократ!
Имелась у Андрея Ивановича и своя персональная кружка, на которой был оттиснут его цветной портрет анфас. Витьки говорили, что при такой «ксиве» ему менты за километр честь обязаны отдавать, и паспорта не спрашивать.
Андрей Иванович в недавние еще времена в больших начальниках ходил, вернее – ездил, а мой хозяин Серега при нем шоферские обязанности исполнял, и другие разные поручения.
Руководящее свое прошлое Андрей Иванович никак не афишировал и не выпячивал, и наливали ему, когда было что налить, вровень со всеми, без учета былых номенклатурных заслуг.
Витьки всегда орали при этом, что отсутствие привилегий – выдающееся завоевание и даже определяющий признак демократии. И первый тост они обязательно предлагали за главного борца с привилегиями – неизвестного мне Бориса Николаевича, с которого у нас эта самая демократия вроде бы и началась.
«Он на «Москвиче» ездил! – аргументировали свое предложение Витьки. – И в районной поликлинике лечился…»
«От алкоголизма?» – интересовалась подробностями Анжелка, но Витьки этот ее невинный вопрос игнорировали.
«Не признак, а призрак… Призрак демократии…», – принципиально не соглашался с Витьками Андрей Иванович, но выпивал всегда со всеми вместе, и тоже с удовольствием. И поступал он – все с этим соглашались – вполне разумно и в духе времени: раз народу предлагали голосовать сердцем, то почему бы народу не использовать теперь и другой имеющийся у него внутренний орган – желудок?
«После первой не закусывают!» – торопились Витьки и разливали по второй. И пили уже без тоста, чтобы не отвлекаться и не стопорить коллективную процедуру, и опять без закуски – по причине ее отсутствия.
После «третьей» счет вообще прекращался: счастье ведь не в количестве, а в качестве, то есть в сногсшибательности напитка. С этим «почти что афоризмом» тоже согласны были все, и разливать последнюю бутылку (ее суеверно называли крайней) единодушно доверяли только Андрею Ивановичу: он делил – по булькам! – с невообразимой точностью, и разногласий почти никогда не возникало. Наоборот, после возлияния возникало чувство братского единения, наступало роскошное время человеческого общения.
«Экзюпери, мать его! Антуан де Сент…» – обязательно произносил странную фразу Андрей Иванович. И все почему-то ухахатывались, пытаясь ее повторить-выговорить, но ни у кого уже не получалось…
В эти счастливые минуты меня могли и в нос расцеловать, и общую кастрюлю с остатками каши или макарон щедро на пол поставить. Все становились милыми и сентиментальными, и все почему-то настойчиво допытывались друг у друга: ты меня уважаешь? Правда, очень скоро я узнал, что расслабляться не стоит ни на мгновение: в любой момент можно было получить пинок по ребрам от только что дружелюбно обслюнявившего тебя человека, который внезапно стервенел и становился отвратительным и страшным в этой злобной своей переменчивости.
Серега Андрея Ивановича уважал и только на «вы» к нему обращался. У них иной раз тоже до мордобоя дело доходило (по личным исключительно мотивам, к «розливу» касательства не имеющим), но, раскровенив сопатку шефу, Серега обязательно примиряюще протягивал тряпку и просил: «Утритесь, Андрей Иванович…» И тот утирался, а Сереге все равно продолжал начальственно тыкать.
Все эти житейские детали я и сам наблюдал и от приходящих девиц узнавал. «А потом он спился», – переходили они на таинственный шепот, и мне никак не удавалось до конца разобраться в истоках душевной трагедии Андрея Ивановича.
Однажды, когда все уже были в отключке и храпели по углам, он сам мне немножко приоткрыл свою «философию».
«Понимаешь, Василий, – в поддатом состоянии он меня почему-то Василием называл. – Все это, – потыкал он пальцем вокруг себя, вглядываясь в лица спящих собутыльников, – все это эфемерное. Понимаешь? Ненастоящее! Нет, ничего ты, Василий, не понимаешь... Все мы ничего не понимаем. И все – ненастоящие…»
Андрей Иванович полез под стол, пытаясь найти закатившуюся, возможно, «крайнюю» бутылку с остатками вина, но не нашел – бутылки, даже эфемерные, в доме Сереги просто так не раскатывались. Тогда он продолжил беседу со мной:
«И знаешь, Василий, как-то один царь спросил мудреца: «Что мне сделать, чтобы в государстве все было благополучно?» Мудрец сказал: «Ты поймешь это, если будешь знать ответы на три вопроса. Какое главное дело твоей жизни? Какой главный человек в твоей жизни? Какой главный момент в твоей жизни?». Царь подивился простоте решения, а мудрец продолжил: «Самое главное дело в твоей жизни – то, которое ты сейчас делаешь. Самый главный человек тот, с которым ты сейчас говоришь. Самый главный твой момент – вот этот момент».
В этом месте Андрей Иванович вдруг заплакал.
«И что, Василий, вот сейчас и вот здесь и происходит самый главный момент моей жизни? И самым главным делом я сейчас занят? С главными своими людьми-человеками общаюсь?» – спрашивал он меня, рыдая и утирая слезы рукавом грязной рубахи.
Я, удивленный и сконфуженный внезапными мужскими слезами, только глаза отводил деликатно в сторону, не умея ответить на его вопросы. Да он в ответах, по-моему, и не нуждался…
По утрам компания собутыльников всегда была мрачной и раздраженной. Два Витька однообразно предлагали занять у кого-нибудь стольник «до после обеда»; девицы на это привычно фыркали и крутили пальцем у виска; Серега униженно суетился, потому что хозяину, не сумевшему утром «накрыть поляну» для вечерних гостей, суетиться положено по определению. Один только Андрей Иванович никогда не терял присутствия духа. Ему-то первому и пришла в голову эта совершенно гениальная мысль – продать меня, чтобы на вырученные деньги опохмелиться.
«Да кто ж его купит?! Кому он, шелудивый, нужен?» – засомневались Два Витька, но девицы идею поддержали. Они даже нашли где-то случайный обмылок и устроили мне «банный день» – чтобы я товарный вид приобрел. Воду только нагреть, шалавы, забыли: мыли холодной, и замерз я в ржавом корыте, как собака…
В связи с заманчивым и перспективным бизнес-проектом Андрей Иванович еще историю назидательную поведал. Все его истории были назидательными и начинались одинаково: «Когда я работал на птицефабрике главным инженером…» А дальше всегда шел, собственно, сюжет. В тот раз он получился такой: «Когда я работал на птицефабрике главным инженером, мы с директором создали дочернее предприятие, которому продавали цыплят по очень низкой цене. А через пару недель выгодно покупали у «дочки» этих же цыплят по цене очень высокой. При этом сами цыплята, – Андрей Иванович многозначительно, привлекая внимание слушателей, нацелил указательный палец в потолок, – территорию фабрики не покидали…»
«Ну и че? – не врубилась Наташка, измученная головной похмельной болью и вообще плохо разбиравшаяся в причудах российского бизнеса. – В чем фишка-то?»
«Че, че? Через плечо! – возмутился за бывшего своего начальника Серега, хорошо знавший на правах приближенного водилы-экспедитора всю финансовую подоплеку давнего гешефта. – Все наши олигархи так начинали, и живут теперь… как сыры в масле…»
О жизни сыров в масле я, к сожалению, никакими подробностями не располагал, потому и о повседневном существовании олигархов представления не имел, но все остальные были, видимо, в курсе, и вопросов больше не задавали.
Когда меня повели на продажу, Серега тяжко вздыхал и конфузился – то ли меня очень жалел, то ли очень ему хотелось выпить...
Первый раз меня продали прямо у винного магазина какой-то взбалмошной тетке, которая все интересовалась, есть ли у меня паспорт и хороша ли родословная.
«Из дворян! – тут же изобразили мое генеалогическое древо Два Витька – А паспорт сдан на прописку, на следующей неделе обещали оформить…»
Любознательная тетка Витькам поверила и требуемую сумму «на литр» им вручила. Напоследок она спросила, как меня зовут, и Два Витька немедленно придумали: Боник. На самом деле меня у Сереги никак не звали, персонифицировали редко: «Эй!» Или: «Пшел, гад!» Ну да ладно, пусть будет Боник, нынче такие дурацкие имена почему-то пользуются большой популярностью.
Через полчаса я уже был дома, оживленно встреченный моими опохмелившимися друзьями. Серега щедро накормил «вчерашним» супом, девицы визжали и восторженно меня тискали, называя добытчиком, а Андрей Иванович задумчиво произнес по-иностранному: «Перпетуум мобиле!» На что Два Витька откликнулись мгновенно, и применительно к обстоятельствам у них очень точный смысловой перевод получился: «Теперь у нас бухла будет - залейся!»
С тех пор так и повелось – деньги на опохмел стали получать от моей продажи. Правда, не всегда удачно, как в первый раз, удавалось сбегать от покупателей.
Однажды один «крутой мен» увез меня аж на другой конец города и запер на огороженном участке. Два дня я делал подкоп под забором, все лапы стер, и потом неделю добирался до дома. По дороге и с котами в схватки вступал, и от суровых бездомных кобелей улепетывал. К Сереге явился – кожа да кости, – но зато как радостно все меня приветствовали…
В другой раз случилось и того хуже. Меня сторговали три вертких узкоглазых гражданина. И привели в общежитие, битком набитое такими же верткими и узкоглазыми. И все они сразу же принялись бесцеремонно меня лапать, громко споря, сколько надо будет ещё кормить, чтобы довести до нужной упитанности. Я долго не мог понять причины ажиотажного интереса к моей персоне, а когда уяснил, то даже обмочился со страху. И теперь знаю рецепты многих национальных корейских блюд, которые все начинаются словами: «Пойдите куда-нибудь, где продают молодых – они вкуснее! – собак…»
Неудачливые иностранные повара гнались за мной несколько кварталов, но я оказался проворнее.
Андрей Иванович очень удивился моему счастливому возвращению из корейской неволи и все почему-то любопытствовал: одну только острую закуску хе из меня собирались приготовить азиаты или и другие блюда в меню предполагались? Значит, знал, старый хрен, с какой целью меня эти гурманы-извращенцы покупали. Правильно говорят: когда обезьяна стала лицемерить, она превратилась в человека…
Девицы, которым всегда хотелось «чего-нибудь вкусненького», приспособили меня еще и для добывания съестного. Они сажали меня в сумку и, кокетливо улыбаясь и строя глазки охране, заходили в супермаркет. В укромном углу магазина, загородив от камер наблюдения, они меня из сумки извлекали, совали в пасть батон колбасы или упаковку замороженных шницелей, и я стремглав летел к ожидавшей на улице Анжелке. Охранники громко матерились мне вслед, но случаи эти благоразумно скрывали и до милицейских протоколов дело не доводили: во-первых, сами, ротозеи, виноваты, а потом – с кобеля какой спрос?
Так я стал главным поильцем-кормильцем и самого Сереги, и всех его прихлебателей…
Последний раз меня продали не совсем удачно, вернее – совсем неудачно.
У Сереги вдруг появились соседи-москвичи, снявшие на лето дом через дорогу. К ним-то и привели меня смурные с утра пройдохи. Два Витька нахраписто меня расхваливали вышедшему к калитке мужчине, задирали зачем-то хвост и показывали «счастливое очко». Андрей Иванович, игравший роль моего хозяина, вроде бы даже сомневался в выгоде сделки и – тоже мне артист, психолог-самоучка! – делал вид, что в любой момент может передумать.
«Мила! Смотри, какого замечательного песика нам предлагают, – позвал жену москвич-покупатель. – Всего лишь «на литр» просят…»
Появившаяся женщина внимательно и с подозрением оглядела пришедших. Два Витька попытались и ей предъявить мой зад для осмотра, но она эти их попытки резко пресекла.
«И что ты собираешься с ним делать?» – строго спросила женщина мужа.
«Ну, почему с ним обязательно что-то нужно делать? Пусть просто живет», – очень резонно ответил ей мужчина.
Женщина, недовольно махнув рукой, подытожила: «Денег на него у меня нет!»
Теперь-то я знаю, что людские жены почему-то всегда снисходительно-раздраженно общаются со своими мужьями при посторонних, выставляя их в самом дурацком свете перед чужими людьми, а тогда ее нелогичному заявлению удивился: если денег нет только на меня, значит, они, в принципе, есть?!
Мужчина ушел в дом и через минуту появился с большой бутылкой джина в руках: «На бартер согласны?»
Присутствовавшая при торге Анжелка демонстративно скривилась: «Я пробовала – гадость! Как тройной одеколон, только разбавленный…» Но Два Витька уже радостно кивали: «Согласны, согласны!»
Обмен тут же и состоялся, к всеобщему удовольствию...
Только не учли, проныры, мудрое жизненное правило: где живешь – там не гадишь. Ну, как, скажите, я мог теперь задать стрекача, если до веселого Серегиного дома десяток метров, и весь двор – как на ладони? Да и надоели, признаюсь, отвратительные замашки подельников – они ведь о собственном только брюхе заботились, а меня кормить забывали. Я хоть и вылизывал всегда до блеска – мыть не требовалось – все три щербатые тарелки и единственную проржавевшую кастрюлю, имевшиеся у Сереги, но этого было явно недостаточно моему растущему организму. И меню у них было очень уж однообразное и незатейливое – макароны да каша, от которых, извините за деликатные подробности, меня потом пучило. Другое дело у москвичей. У них и молока всегда вволю, и мясо на рынке они специальное выбирали: чтобы свежее и обязательно с косточкой – радостью щенячьих зубов. Новые хозяева меня и с Хасаном познакомили, у которого как раз и покупали это замечательное мясо.
И каждый вечер – совместные прогулки по окрестностям. Тогда меня и стали называть Хвостиком – потому что всюду за хозяевами увязывался и ни на шаг от них не отставал. Я с москвичами и в Курортном парке побывал, и у нарзанного источника воду пил: вонючую, но, говорят, очень полезную, целебную. И даже на «Колесе обозрения» катался. Вообще-то собакам кататься на нем запрещено категорически, но, как заявил со смехом мой новый хозяин: если нельзя, но очень хочется, то можно.
От добра, как известно, добра не ищут. Вот и я не искал, хотя, если честно, чувствовал себя виновато: на меня друзья понадеялись, а я надежды не оправдал.
А в бывшей моей компании жизнь стала невыносимой. Вечером еще туда-сюда, а поутру хоть караул кричи: опохмелиться-то нечем. И вся трагедия в том, что и не предвидится…
Дней через пять к моим новым хозяевам притопала полномочная и мрачно-трезвая делегация: Два Витька, Андрей Иванович и Анжелка с «доказательством» – пустой бутылкой из-под джина, на которую, только полную, они меня выменяли.
Переговоры вел Андрей Иванович, который для такого серьезного случая даже галстук надел и ботинки почистил, и аргумент у него был безупречный: «Не согласны! Вертайте!». Анжелка при этом совала под нос моему хозяину-москвичу бутылку и почему-то требовала предъявить сертификат качества. «Как тройной одеколон, только разбавленный», - твердила она безостановочно и опять показательно кривилась, демонстрируя стойкое отвращение к «одеколону».
Новый мой хозяин удивленно таращился на колоритную ораву, и переговоры могли бы привести и к мировому соглашению, но дело испортили Два Витька. «Возвращай, гад, нашу законную собственность!» – заорали они вдруг на москвича, не сдержав похмельных мук ожидания.
Хозяин совсем не испугался их отчаянного вопля. Он спокойно вытащил мобильный телефон и, потыкав в кнопочки, передал трубку Андрею Ивановичу. И у того глаза сразу же стали квадратными. На связи был… Сам! Участковый! Уполномоченный! Капитан! Милиции! Семкин! Андрей Иванович и слова в трубку не вымолвил, только кивал подхалимски да пот со лба смахивал. И это был полный, как потом определила Анжелка, пипец.
После телефонного «разговора» поникшая компания тихо, на цыпочках, удалилась. И лишь поздним вечером принявший на грудь Андрей Иванович стал, как всегда, бесстрашно рассуждать о политической ситуации в мире и конкретно высказался по существу случившейся позорной утренней капитуляции: «Все! Конец стране! С таким-то уровнем коррупции! Ну, суки…»
Странное это звание – «москвичи». Все-то у них схвачено, за все заплачено, везде контакты. Все их молча ненавидят, но сами готовы на что угодно, только чтобы тоже так прозываться. Еще один парадокс необъяснимый.
А к Сереге заявилась ответственная комиссия. Я видел сквозь забор как десятка полтора строгих теток и мужиков сразу же принялись громко командовать и что-то писать. Час, наверно, командовали и писали. Даже через дорогу были слышны их начальственные резолюции: «За неуплату! По погашению задолженности! По взысканию штрафа!». И все время о какой-то пене… мыльной, что ли, они твердили: пеня, пеня…
Первыми уехали судебные приставы, им в Серегином доме поживиться оказалось нечем. И участковый Семкин, приданный комиссии для силовой поддержки, тоже вдруг вспомнил о необходимости срочно снять свидетельские показания. И снимал он их у москвичей – под коньячок – до самой ночи.
Возможно, все и закончилось бы, как водится, – криком и писаниной, – но подъехала еще одна машина: грузовая, с работягами. И те в два счета, срезав провода, обесточили дом, перекрыли подачу воды, а на газовую трубу поставили «заглушку». Вроде, как и решение демократичное и коллегиальное вынесено, и приговор справедливый немедленно исполнен…
Серега, Два Витька и Анжелка за происходящим наблюдали равнодушно, один только Андрей Иванович духарился и грозил обратиться в Европейский суд по правам человека, и еще почему-то в ЮНЕСКО, – «где во всем разберутся и выводы сделают соответствующие».
Принятые комиссией меры, я думаю, никак не отразились на устоявшемся быте и самочувствии моих бывших компаньонов, дискомфорта точно не испытывали. Ведь воду они пили, когда другого питья не было, только по утрам и с отвращением, да и к бабке Нюре за ней всегда с ведром сходить можно. Электричеством вообще давно не пользовались, поскольку электроприборы отсутствовали, а последняя «лампочка Ильича» перегорела еще на майские праздники.
Серега притащил откуда-то десяток кирпичей и, специальным образом уложив их рядом с кухней, накрыл металлической решеткой – вполне приличный мангал получился. На нем и колбасу «с дымком» можно поджаривать, и «барбекю» из магазинных шницелей готовить. И, главное, с дровами никаких проблем: дом-то у Сереги большой и деревянный, его надолго хватит.
Так бы и жили – цивилизованно и комфортно, но Два Витька газ – из принципа! – решили восстановить. Они сперли на чьем-то огороде поливочный шланг и с его помощью и под инженерным надзором Андрея Ивановича организовали «времянку». И даже какую-то загадочную «уплотнительную муфту», вырезанную из старой велосипедной камеры, прикрутили проволокой в месте соединения шланга с газовой трубой.
«Ништяк! – положительно оценили Два Витька собственную работу. – Хохлам такая халява и не снилась…»
…Ночью ужасный взрыв потряс улицу. От взметнувшегося в небо столба пламени стало светло, как днем. Пронзительно выли пожарные машины, подъезжали «Скорые», суетился народ.
«Газ рвануло! Перепились, уроды, и кран не перекрыли…», – выдвигали ошибочную версию ротозеи.
Никто ведь и подумать не мог, что инициативные Витьки, оберегая заботливо свой шланг-времянку от «избыточного давления», кран на газовой трубе вообще свинтили за ненадобностью, и еще хвастались при этом собственной изобретательностью: вечный, дескать, огонь теперь будет у Сереги.
Получилась «вечная память»…
Меж суетящихся зевак металась полуголая не протрезвевшая Анжелка и всем в десятый раз рассказывала: «Пошла я, значит, с вечера в огород… ну, по своим делам… живот у меня схватило... А там, в углу, раскладуха имеется, с матрасом, я на ней и устроилась, чтобы далеко, значит, не бегать. А потом… как бабахнет!» – Анжелка широко распахивала трясущиеся руки, чтобы показать необъятную мощь этого «бабаха».
Толку от Анжелкиного рассказа не было никакого, она все больше про свой расстроившийся живот помнила и повторяла, как заведенная: «А потом – как бабахнет!» Она мешала пожарным, равнодушно таскавшим кишки-шланги по огороду, и скоро ее посадили в милицейский «уазик» и увезли – чтобы сначала проспалась, а когда потребуется, дала свидетельские показания.
Потом исчезли и машины «Скорой помощи»: помогать, как выяснилось, было поздно и некому.
Пожарные до утра неторопливо заливали головешки дома, в котором мне было голодно и бесприютно, но который, единственный, оставался родным…
После пожара москвичи вдруг решительно засобирались уезжать. «Не хочу я жить на пепелище!» – заявила женщина мужу, и он с ней сразу же согласился. Действительно, вид из окна был ужасный и отпускному их настроению не соответствовал и не способствовал.
«Извини, мальчик, взять с собой мы тебя не можем», – честно сказала хозяйка и погладила меня по голове.
Хозяин ничего не сказал, он принес откуда-то новенький ошейник с металлической пластинкой, на которой было написано: «Хвостик», и молча надел его на меня. Женщина вдруг заплакала и стала меня целовать и кричать на мужа: «Я же знала! Я же говорила! Ты никогда меня не слушаешь…» Мужчина тоже стал на нее кричать, злиться и, размахивая руками, бегать по комнате…
Потом они уехали, а я остался.
И я их понимаю: Москва ведь не резиновая, там, в столице, и без меня «понаехавших» хватает …
… Уже полгода я живу на городском рынке. И жизни моей можно только позавидовать: ем сладко, сплю мягко. Постоянного хозяина я себе заводить не тороплюсь: это ответственно и налагает обязательства. А вот просто друзей у меня много. Один из них – Хасан. Замечательный человек! Он тоже, как и Серега, очень добрый и заботливый. Однажды, хорошо выпив и покурив с друзьями каких-то особенных папирос, он – на спор – отрубил мне кончик хвоста. Совсем немного, сантиметров пять… Я сначала на Хасана обиделся, потому что было больно, но потом вспомнил, как он всегда уважительно свое «Жри, пожалуйста» произносит, и обижаться перестал. К вам жена, швыряя на стол утреннюю яичницу и расплескивая кофе, с таким почтением и лаской обращается? То-то и оно!
Все называют меня Хвостиком. Хотя, конечно, имя это после «обрезания» стало в некотором смысле сомнительным, и точнее было бы называть Короткохвостиком, или еще как – в соответствии со случившимися обстоятельствами, но у людей свои причуды, да и на подаренном москвичами ошейнике четко ведь написано: Хвостик.
Мое имя мне нравится. И вообще, жизнь у меня – Анжелка верно напророчила! – удалась счастливая. Только иногда почему-то выть очень сильно хочется...